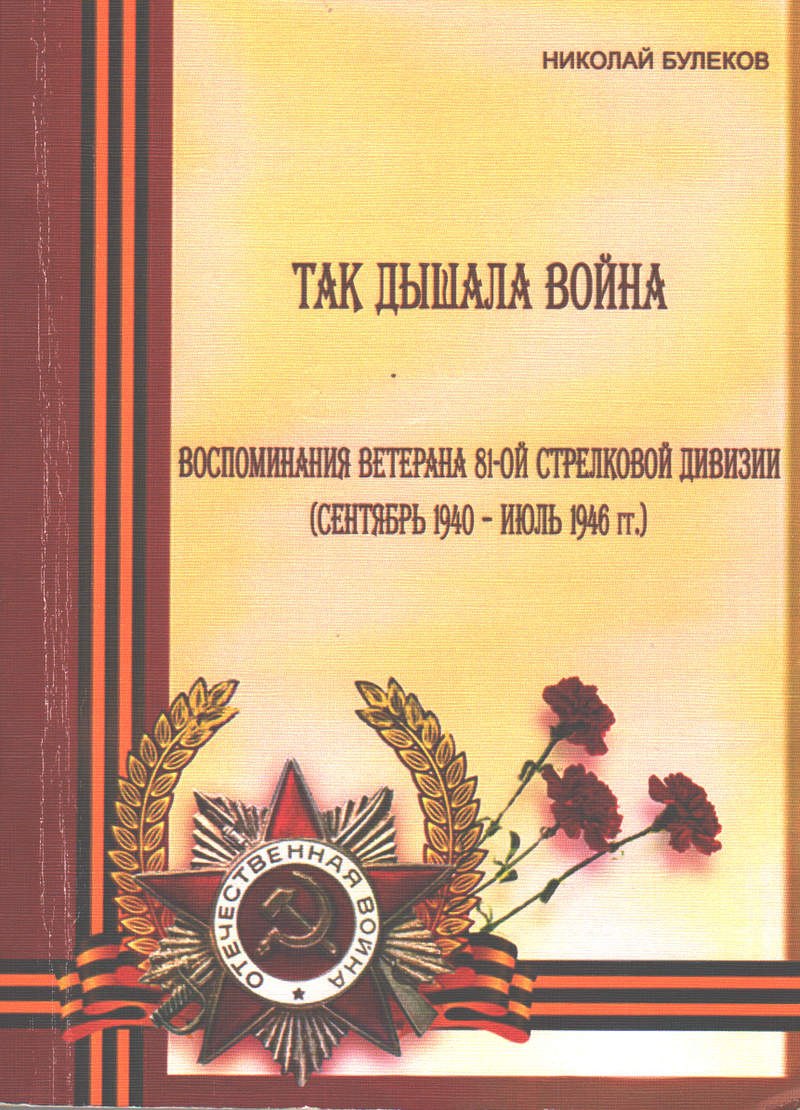
НИКОЛАЙ БУЛЕКОВ
ТАК ДЫШАЛА ВОЙНА.
Воспоминания ветерана 81-ой стрелковой дивизии (сентябрь 1940 - июль 1946 гг.)
В литературной и научной редакции
В.Г. Шнайдера
Армавир, 2006
Интернет-версия воспоминаний подготовлена на основе издания:
Булеков Н.П., 2006 г.
РИЦ АГПУ, 2006 г.
СОДЕРЖАНИЕ
НЕЗАБЫТЫЙ СОЛДАТ.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Кандидат исторических наук В.Г. Шнайдер