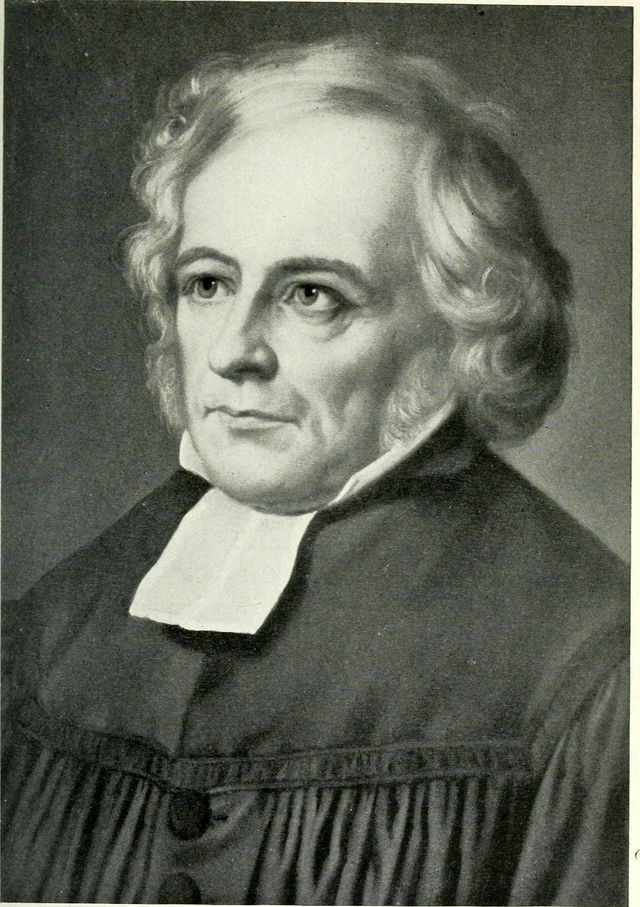
МОНОЛОГИ
|
|
||
"МОНОЛОГИ" Фридриха Шлейермахера служат прекрасным дополнением к его "Речам о Религии". Написанные сразу на следующий год после "Речей" (1800 г.) Монологи фактически являются равернутым пояснением к "Речам", но вынодно отличаются от последних тем, что обращены не к образованной публике, презирающей религию, а к сочувствующему, понимающему собеседнику; близкому другу, которому Фридрих приносит свои монологи в дар, как "дружеский духовный поцелуй". Из этих монологов мы узнаём Фридриха как немца, наблюдавшего Великую Революции из-за границы и честно старавшегося лично осуществить предложенную Руссо саморефлексивную "алхимию" обретения в себе субстанции "Общей Воли" под именем "Человечности". | ||
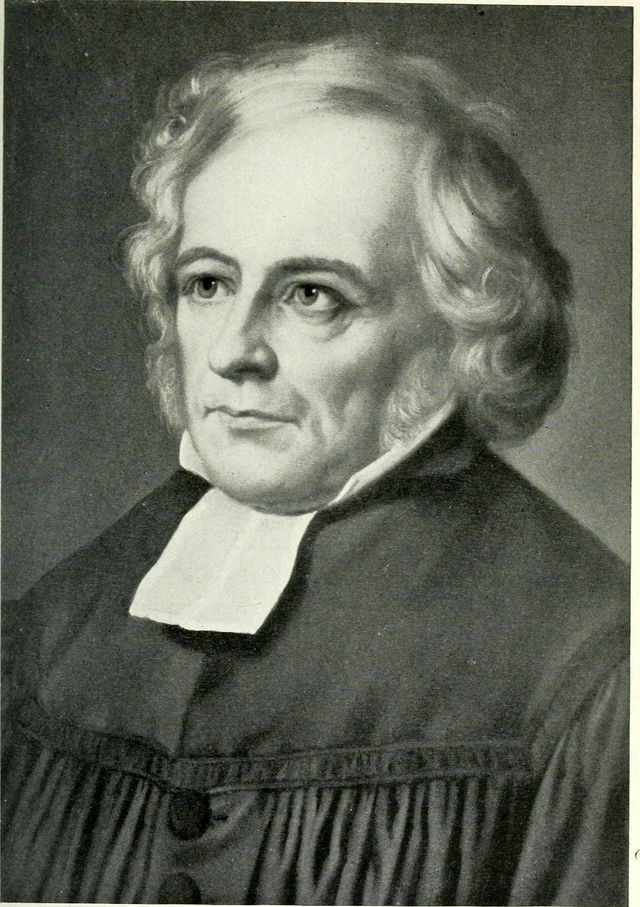
МОНОЛОГИ