
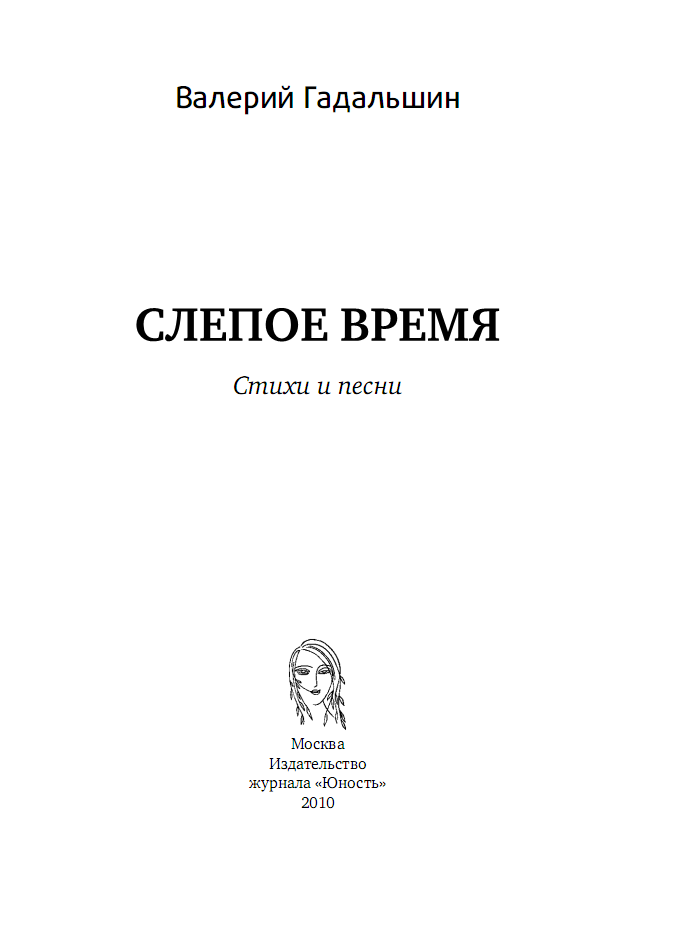
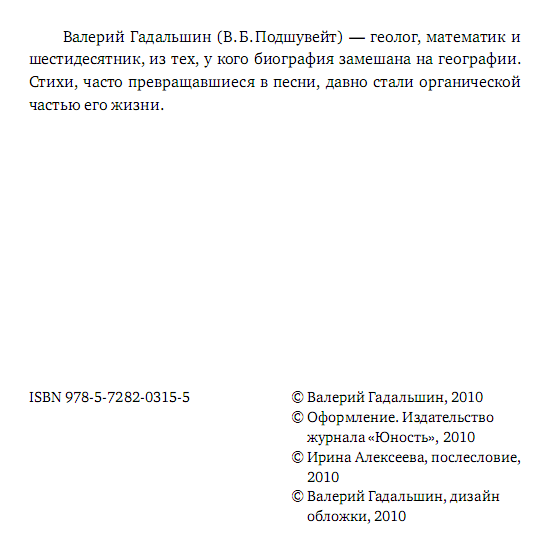

Валерий Гадальшин
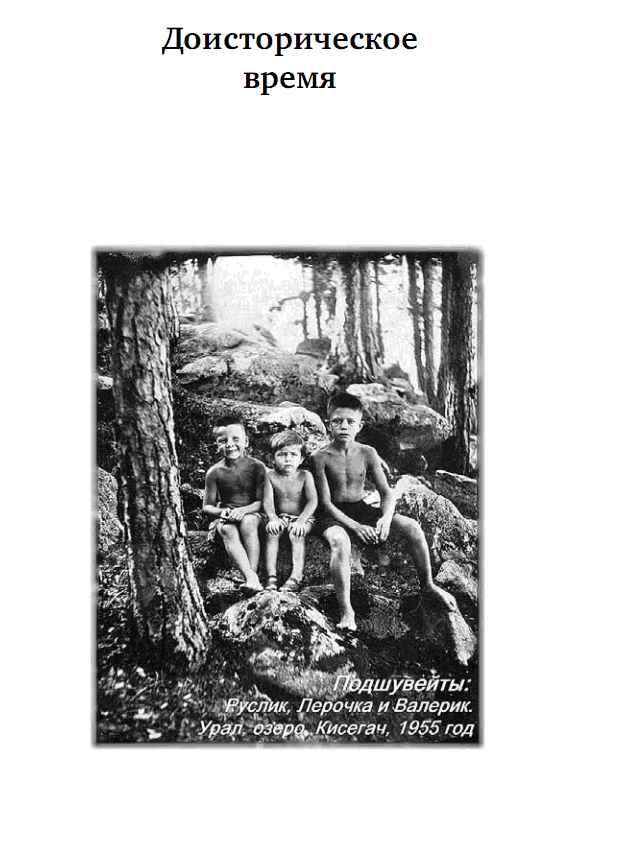

Наш паровоз...
|
|
||
Книга стихов и песен (С) Валерия Гадальшина (В.Б. Подшувейта)"Слепое время" выпущена издательством журнала "Юность" в 2010 году (ISBN 978-5-7282-0254-7). Редакция и послесловие - (С) Ирина Алексеева. | ||

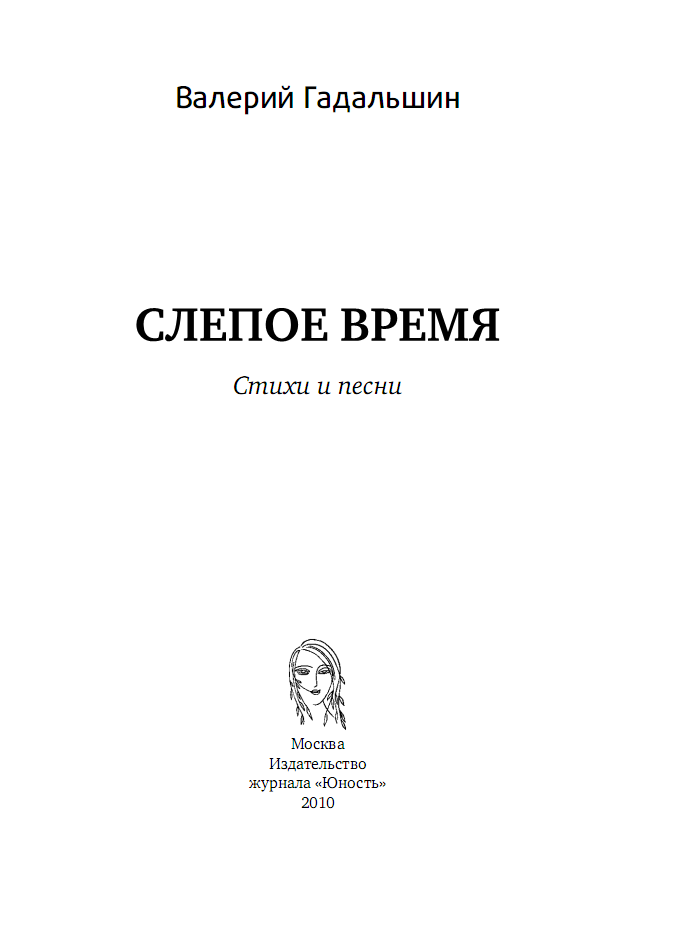
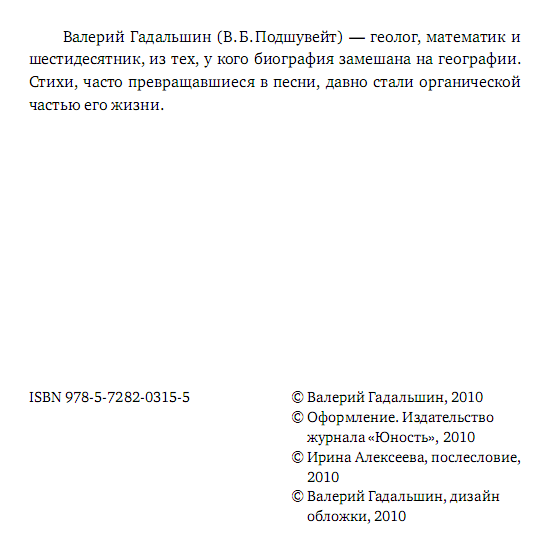

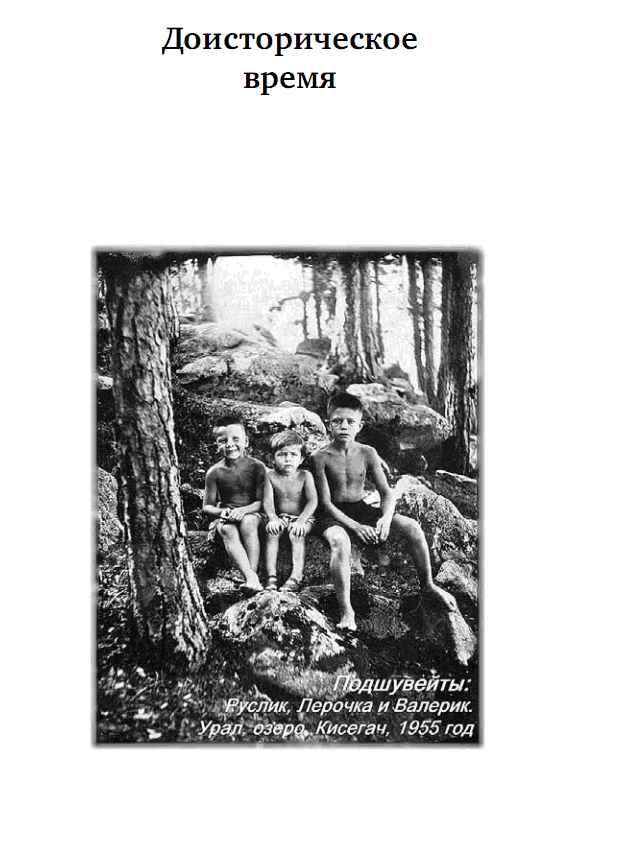

Наш паровоз...